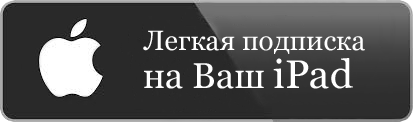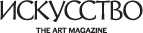Основан в 1933-м году и был первым в СССР периодическим изданием по изобразительному искусству и за годы своего существования приобрел большой авторитет, как у отечественных, так и у зарубежных специалистов и любителей искусства.
Интервью с художником Евгением Сахацким

На площадке специального проекта поддержки молодых художников ЦСИ ВИНЗАВОД «СТАРТ» открылась дебютная выставка Евгения Сахацкого «Ничего нового», которую можно посмотреть до 13 августа. О том, что такое «гоп-арт» сегодня и почему политика и искусство не очень сочетаются, мы поговорили с художником в его мастерской.
- Расскажите, как вы попали в проект «СТАРТ» Винзавода?
О проекте узнал из интернета года 2-3 назад. Сначала я даже не думал пробовать свои силы, но месяца 3-4 назад решил отправить заявку. Изначально, я хотел попасть на Московскую биеннале современного искусства. Но получилась так, что оказался в проекте «СТАРТ».

- Вы давно занимаетесь живописью? Быть может, получили специальное образование?
По образованию я антрополог. (Смеется)
- Это очень даже неплохой бэкграунд.
Но рисовать я любил всегда. В детском саду, в школе всегда отмечали. Но это я всерьез никогда не воспринимал. Поступил в институт, забыл про это. Но года четыре назад достал свои засохшие акварельные краски и начал рисовать. Потом стал посмелее и решил попробовать акрил, а затем дорос уже до масла.

- Как долго шла работа над выставкой?
В течение месяца, как мне сказали, будет выставка. У меня было небольшое количество работ, штук 5-7. Остальное я готовил к выставке.
- Выставка заявлена как возвращение к стилю гоп-арт. Вы согласны с подобной трактовкой? Почему именно гоп-арт, а не, скажем, «стрит-арт»? Как бы вы сами определили свое творчество?
Наверное, на данный момент гоп-арт кажется чем-то более абстрактным. Не так, как это было вначале с надписями «Adidas», матом и прочим. Сейчас под этот термин можно подогнать многих художников. На Западе тоже могут рисовать эти окраины, этих людей, но такого определения у них нет. Для меня это условность. Я рисовал и вообще не задумывался над этим вопросом. Просто рисую и ищу что-то свое.

- Обращение к окраинной субкультуре – это концентрация на локальности искусства или попытка отодвинуть установленные границы?
Я бы сказал, что хочется раздвинуть границы. Все-таки это незаезженные сюжеты, на них мало обращают внимание. В какой-то степени это мое альтер эго.

- «Гоп-арт» - это такая критика микрокультуры арт-сообщества. Но не является ли некое условное сообщество окраин тоже микрокультурой? Не становится ли это своеобразной экзотикой, которую вы предлагаете так называемым интеллектуалам?
Я думаю, так и есть. Ещё учитывая, что я художник-самоучка. Но это только начало, только старт. Все будет еще трансформироваться, так или иначе. Мне вообще не хочется оставаться в рамках чего-то одного.


- Сейчас крайне популярны такие локальные мифологии, особенно в музыке. Самые востребованные артисты, в частности, рэперы (Хаски, Оксимирон, ATL)– это люди контркультуры, «люди с окраин», из совершенно разных городов, так называемые «маргиналы». На Ваш взгляд, откуда возникает такой интерес к локальности, к субкультурам?
Наверное, просто все уже приелось. Всегда хочется чего-то нового, хотя это и может быть забытое старое. Сам по себе русский рэп или русский рок отличаются от рока и рэпа как таковых. Это все равно часть общей русской культуры. Даже тот же Тимати, который копирует западных исполнителей, создает русский рэп.

- На Западе самые известные современные русские художники – это Петр Павленский и Pussy Riot, так как их искусство очень тесно связано с политикой. Как Вы к этому относитесь? Искусство должно реагировать на политику?
Лично для меня, не должно. Но если кто-то выбирает такой путь, то почему бы и нет? Я не хочу вмешивать политику, ее итак слишком много. Она лезет отовсюду: из кино, книг, телевизора. Хочется от этого отдалиться. Но кто-то в моих картинах видит политические отсылки, хотя у меня такой задумки не было.
Беседовала Амаль Авезджанова
Фотографии Дарьи Эпин
Фотографии Дарьи Эпин
19 Июля 2017
новый номер
Журнала
тема номера
Про природу
Тема природы оказалась вдруг одной из важнейших во всём мире. Резкий всплеск интереса художника к окружающей среде постулируется и в статьях газеты The New York Times, и в основном проекте Венецианской биеннале, и в программе Триеннале садов в датском Орхусе. Вероятно, дело здесь не только в том, что художники вдруг осознали, что мы находимся на краю экологической катастрофы, но и во внутренних процессах самого искусства.